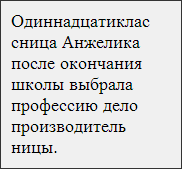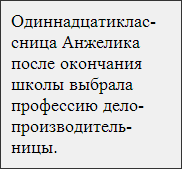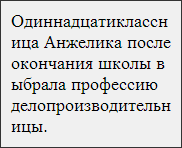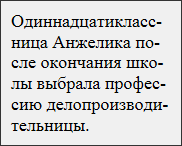Любовь в эпоху перемен
Отрывок из нового романа
От автора
Бывают странные забвенья. Забывают книги, имена, события, чтобы потом вспомнить и ахнуть: «Ну, как же без этого! Ну, почему же!» Нечто подобное произошло и с перестройкой, хотя она сильно повлияла на всех нас и стоила жизни Советскому Союзу. Но эта краткая эпоха пролетела так стремительно, увлекая в пропасть целую цивилизацию, что отечественная литература даже не успела толком её рассмотреть, как человек, стоящий на платформе, не успевает разглядеть на вагоне табличку, объясняющую, куда пронёсся курьерский.
Мои ранние повести «Работа над ошибками», «Апофегей», «Парижская любовь Кости Гуманкова» рассказывают как раз о той поре. Об этом был и сценарий «Первый вопрос», который я писал в соавторстве со знаменитым кинодраматургом Евгением Габриловичем для режиссёра Леонида Эйдлина. В начале 87-го мы сочинили историю про захолустный горком партии, где тоже начались гласность, ускорение, выдвижение новомышленцев, борьба с ретроградами. Габрилович и я, как большинство тогдашних людей, были опьянены прекрасными иллюзиями, верили, что новое лучше старого по определению. Однако логика сюжета, развитие характеров, творческая интуиция привели нас к весьма печальному финалу – печальному и для главной героини (её должна была играть Ирина Муравьёва), и для всего захолустного городка, ударившегося в обновление. Второе творческое объединение «Мосфильма» сценарий гневно отвергло, обозвав нас вдогонку врагами перестройки. Габрилович от огорчения слёг. Но, увы, наш прогноз оказался верным.
И всё-таки современники стоят слишком близко к мчащемуся поезду эпохи, они многого не видят и не понимают. Всё это приходит позже. Спустя много лет мне захотелось написать о том странном времени, проследить судьбы «грандов гласности» и «прорабов перестройки», распутать узлы, завязавшиеся тогда и разрубленные только теперь. Вот почему действие романа происходит в двух временных планах – сегодня и в 1988 году. Как-то само собой получилось, что главный герой оказался журналистом, борцом за свободу слова, он из тех, кто сыграл немалую роль в изменении участи огромной державы. От таких многое зависело. А вот от чего и от кого зависели они? Чем всё-таки была перестройка – прорывом, розовым помрачением или направленным взрывом, растянувшимся на шесть лет?
Впрочем, мой роман, что следует из названия, о любви, о вечном поиске счастья. Так уж устроены мои мозги, мне обязательно нужно рассказать о том, что окружает двоих, падающих в пропасть взаимных объятий. Если мне когда-нибудь доведётся рассказать, например, о страсти, вспыхнувшей между мужчиной и женщиной, которые летят к Марсу, я обязательно опишу устройство космического корабля, обычаи космоплавания и покрою гневной сатирой технический персонал, забывший докрутить на земле пару гаек, из-за чего звездолёт теперь несётся к Венере. Потом, конечно, влюблённые сорвут с себя скафандры и предадутся страсти, кувыркаясь в невесомости, а критика снова обвинит меня в излишнем эротизме. Но в 60 лет (сегодня у меня как раз день рожденья) такой упрёк даже приятен.
Роман «Любовь в эпоху перемен» выйдет в новом году в сокращённом виде в журнале «Москва» и полностью в издательстве АСТ.
Юрий ПОЛЯКОВ, юбиляр
…Дымы над широкогорлыми трубами Битцевской ТЭЦ напоминали толстые витые колонны, подпирающие тучное небо. Москву замело и заморозило. Такого марта не помнил никто. Гена Смелков, седой апоплексический импозант, стоял у открытого окна и опасливо курил, как подросток, заскочивший в школьный туалет – «дёрнуть» по-быстрому, пока не застукала Фаза. Немка Фаина Захаровна обладала редким нюхом. Фантастическим! Она могла мерно стучать мелом по доске, но вдруг её ноздри хищно вздрагивали, лицо вспыхивало карательным румянцем. И Фаза тяжким шагом безошибочно направлялась на тот этаж, к тому самому мальчиковому туалету, где творился смертный грех табакокурения. Сказав: «Ни на кого не смотрю!» – она брала преступника за ухо и тащила через всю школу во двор «проветриться». О, это был путь позора! Под ногами путалась глумливая малышня, гоготали издали жестокие дружки, успевшие спрятать свои окурки, но главное: обидно хихикали ровесницы, чьи форменные юбочки день ото дня становились всё короче, а ноги всё длиннее! К тому же ухо потом раздувалось, как ватрушка, и болело неделю.
Смелков пощупал мочку, вспоминая стальные пальцы Фазы, и выпустил в приоткрытое окно струйку дыма. Отсюда, с шестого этажа, было видно, как прохожие, подняв воротники, спешат меж сугробов к теплу, а за ними гонится, извиваясь, позёмка. Метель залепили даже огни светофоров, и машины, сгрудившись на перекрёстке в безнадёжном заторе, жалобно и разноголосо сигналили. На заснеженных лобовых стёклах мятущиеся «дворники» еле успевали выскабливать удивлённые полукружия. Толстый регулировщик, стянутый портупеей, как подушка, приготовленная к переезду, размахивал полосатым жезлом и, казалось, дирижировал воем автомобилей.
Сделав последнюю долгую затяжку, Смелков выбросил окурок, и тот сразу затерялся в косо летящих белых хлопьях.
«Дожил, ёкарный бабай! В собственном кабинете уже и покурить нельзя. Как в школе. Запретили! И кто? Заходырка. Сука! Воровка! Тащит всё, что идёт под руку…»
Но бесился он не из-за воровства. Оно давно стало в Отечестве чем-то вроде обмена веществ в организме. Казалось, перестань люди воровать, брать взятки, откатывать – всё сразу остановится, замрёт: заводы не будут дымить, поезда грохотать по рельсам, самолёты взлетать и садиться, банки торговать деньгами, а танки вращать башнями, целясь во врага. Казалось, без воровства исчезнет смысл существования, ибо на честные деньги жить неинтересно и утомительно. Злился он из-за того, что Заходырка стала лезть в его дела. Сегодня, едва поздоровавшись, спросила голосом следователя: «А где же ваша статья?» «Твоё-то какое дело?! Твоё дело, коза, по калькулятору маникюром щёлкать и ноги задирать!»
А статья вышла отменная. Одно название чего стоит – «Клептократия»! После долгой разлуки вдохновение ворвалось в остывшее сердце Смелкова, как буйная старшеклассница в спальню пенсионера. Утром он перечитал сочинённое в ночной лихорадке и вместо привычного срама за неодолимую приблизительность слов ощутил сладкое стеснение в горле – верный признак удачи. Но публиковать статью нельзя. Ни в коем случае! Уткин – страшный человек. Оторвёт голову одним щелчком. Не печатать тоже нельзя. Хозяин торопит: скорей, скорей, скорей! Хорошо ему: сидит, хорёк, в Ницце, гуляет по Английской набережной, заказывает по интернету девок и трахается, как тропическая землеройка. Одно слово: Кошмарик!
Смелков прижал воспалённый лоб к стеклу, почувствовал ледяной ожог и, посвежев, вернулся к столу, заваленному бумагами. Чего тут только не было: рабочие полосы, депеши из инстанций, «трудные» рукописи, письма читателей, конкурирующие издания, готовые материалы, отпечатанные на «собаках»… Сверху лежал ксерокс мужской диеты «Простоед» и блестело жирными золотыми виньетками приглашение на 20-летие издательства «Маскарон». Гостям рекомендовалось одеться в стиле «Ар нуво», прибыть к 20.00 в шехтелевский особняк, рядом с Собачьей площадкой, и погрузиться в изысканный тлен Серебряного века. Помимо тлена обещали устриц, ананасы в шампанском, эротическую сцену из «Катерины Ивановны» в исполнении театра «Гамаюн» и выступление «Перпетуум-мобиле».
«Смотри-ка, до сих пор тарахтит!»
Смелков ещё молодым журналистом брал интервью у лидера группы Антона Могилевича. Они сидели в большой квартире с окнами на Чистые пруды, пили редкую по тем временам «Белую лошадь», курили ещё более редкий золотой «Честерфильд», и Могила, поглядывая на часы (он спешил на гастроли в Венгрию), рассказывал, как задыхается в этой стране с уродским названием СССР, потом взял гитару и спел новую песню:
Мне скучно в этой огромной стране,
Мне душно в этой огромной стране,
Мне страшно в этой огромной стране,
Мне тесно в этой огромной стране,
Уберите плакаты из наших душ,
Уберите цитаты из наших душ,
Уберите доклады из наших душ,
Уберите приклады от наших душ!
Поднимите нам веки,
Поднимите с колен!
Мы хотим перемен!
Мы хотим перемен!
Теперь Могила – владелец сети винных бутиков «Чин-чин», но песенки про свободу до сих пор сочиняет и поёт в нужных местах. Геннадий Павлович задумался: юбилей «Маскарона» – очень удобный случай. Надо же наконец вывести Алису в люди, показать и поглядеть, как на неё посмотрят. Бог даст, обойдётся без скандала: Марину давно уже не зовут в приличные места, знают: сразу напьётся да ещё наскандалит. С тех времён, когда она была молода и простительно-красива, у неё осталось весёлое чувство вседозволенности. Да, пожалуй, вероятность встречи жены и любовницы ничтожна. Надо рискнуть. В последние дни ему всё чаще приходила мысль о тектоническом переустройстве личной жизни. Как говаривал покойный тесть, новая жена – это революция. Однако выведя женщину из сумрака спальни, можно её не узнать. Ошибиться нельзя: старость надо встретить с удобной, нежной и надёжной подругой. Смелков спрятал приглашение в боковой карман и решил, что спустится к Алисе после планёрки. В предчувствии скорого свидания тело замечталось, пожилые гормоны затомили сердце умеренными желаниями. Вот такая романтическая химия…
Он сел в кожаное кресло «босс» и, чтобы отвлечься, взял со стола свежий номер журнала «Фитилёк». На глянцевой обложке был изображён президент в виде Карабаса-Барабаса с пышной накладной бородой. Одной рукой он сжимал плётку с тремя хвостами, на которых теснились слова: «Цензура», «Нечестные выборы», «Политзаключённые». Из другой руки тянулось множество нитей, на них корчились неприятные марионетки, напоминавшие лидеров парламентских партий. А рядом, на дереве, устроился бесстрашный Буратино, означавший, надо полагать, внесистемную оппозицию. Приложив растопыренные пальцы к шнобелю, деревянный человечек дерзко дразнил разгневанного супостата, одетого в дзюдоистскую пижаму.
«И ведь не боятся же!» – думал главный редактор, просматривая почту, разобранную секретаршей: письма были вынуты из конвертов и прикреплены к ним степлером, чтобы не перепутать. Когда-то, давным-давно, больше всего на свете журналисты боялись попасть под страшное постановление ЦК КПСС «О работе с письмами трудящихся»: за не отправленный вовремя ответ самому ничтожному жалобщику можно было схлопотать выговор, даже вылететь с работы. А нынче хоть все письма, не читая, сваливай в мусор, никто не заметит, не взыщет, всем давно наплевать. Прежде начальство всё-таки интересовалось: как там, внизу, попискивает удавленный тоталитаризмом народец. Пресса была вроде смотрового окошка в камеру заключённого. Теперь никому ничего неинтересно, теперь демократия: не нравится власть – не выбирай. Она сама себя выберет. На то и – урны. Поэтому и пресса почти разнадобилась – нужна так, для приличия, чтобы на саммитах западные умники не приставали.
Однако сам-то Геннадий Павлович сохранил старый советский обычай начинать рабочий день с редакционной почты, читал, писал резолюции и переправлял в отделы, хоть и знал наперёд: если даже ответят авторам, то с безукоризненной хамской вежливостью. И поделать с этим ничего нельзя! Время такое... Память о том, что и сам он по молодости горячо поучаствовал в сотворении нынешнего неуютного мира, жила в его душе подобно давнему, постыдному, но незабываемо яркому блуду.
В первом письме ветеран лесной промышленности из Сыктывкара с подходящей фамилией Сердюк возмущался беззаконными вырубками зелёного богатства и предлагал организовать «вооружённые народные дружины по защите деревянного золота от беспредела». «Мд-а, предчувствие гражданской войны!» – подумал Смелков. Ему и самому иной раз хотелось, выходя в магазин, прихватить шестизарядный винчестер, подаренный акционерами к пятидесятилетию. Народ стал нервным, драчливым: если похмельный мужик в магазине лез без очереди, его давно уже никто не останавливал и не совестил – зарежет. Были случаи. А кавказская пацанва из аула, в который превратилась соседняя общага, вконец обнаглела…
«Кстати, а что там у нас с шестой полосой?» – спохватился Смелков.
На шестой полосе под рубрикой «Социология для бедных» с колёс шла статья знаменитого правозащитника Адама Королёва. Называлась она «Гимн понаехавшим». Дедушка Королёв был когда-то знаменитым диссидентом, сидел, стучал, митинговал, призывал раздавить гадину, но отошёл от дел и скитался теперь по санаториям. Вдруг позвонил из Ниццы Кошмарик (он теперь, видите ли, кавказскую карту разыгрывает!) и приказал: «Нужна статья о том, что Россия без мигрантов погибнет!» Еле отыскали Адама в Карловых Варах, долго уламывали, но статья вышла не о том, как полезны «понаехавшие», а о том, какой ужас начнётся, если русские сорвутся с цепи.
Смелков подумал, что с годами он стал острее ощущать себя русским. Странное чувство, идущее не от ума, конечно, а от тела. Тоже, наверное, химия… Видимо, сознавая себя частью вечного племени, легче умирать…
«Да что же мне сегодня какая-то ерунда в голову лезет!» – вздохнул Геннадий Павлович и хотел набрать Алисин телефон, однако удержался.
Пусть попереживает, погадает, почему он не зашёл утром. Как говаривал тесть: «Женщина – существо ожидающее. Мужчина – ожидаемое».
Он развернулся на вращающемся кресле и посмотрел на стену: там висели две большие фотографии. На левой Ельцин, воздев беспалую руку, вещал с танка. В толпе, если приглядеться, можно было узнать молодого Смелкова, худого и ярого. Рядом стояли значительный Исидор, пьяный Шаронов и простолицый Жора Дочкин. Соратнички!
Правый снимок запечатлел великую тройку – Черчилля, Рузвельта и Сталина, съехавшихся на Ялтинскую конференцию. Вожди держали в руках по номеру «Мымры». Этот шутейный монтаж подарили коллеги из «Фитилька» к юбилею дружественного издания. Между двумя снимками протянулась рейка с пронумерованными гвоздиками. На них висели оттиски свёрстанных полос – и можно было взглядом оценить готовность выпуска. Один гвоздик пустовал.
«Не сдали полосу, мерзавцы!» – Геннадий Павлович включил селектор, оставшийся в редакции ещё с советских времён. Аппарат устарел, несколько раз ломался, но Смелков требовал починить, хотя обходилось это дороже, чем установить новую систему связи, японскую. Почему? Наверное, по той же причине, по какой вернул рейку с гвоздиками. Он ещё раз вдавил стёртую кнопку – бесполезно: секретарша Ольга не отзывалась.
«Где её черти носят! Не редакция, а какое-то Гуляйполе!» – выругался он, нажал клавишу с надписью: «Жора».
– О величайший, слушаю и повинуюсь! – мгновенно ответил весёлый голос Дочкина.
– Что там с шестой?
– Ты гений! – ответил Жора.
– Да ладно… – Смелков улыбнулся с чемпионским смущением.
– Гений! Не спорь, о скромнейший из скромных! Аристофан Свифтович Салтыков-Зощенко! «Клептократия»! Убиться веником! Это та-а-ак рванёт!
– Ты никому не показывал?
– Ну, ты спросил? Полная тайна вкладов. Обмоем?
– Попозже.
– Жду команды, о златопёрый! Водка стынет в жилах.
– А что там с шестой?
– Сун Цзы Ло держит.
– Что значит – держит? Помнишь, как Танкист говорил?
– Помню. «А если газету в окопах ждут?!»
– Точно. Поторопи!
– Сию минуту, о справедливейший!
…Конечно, теперь, когда всё делается на компьютере и, нажав кнопку, можно увидеть на мониторе любую полосу, материал или снимок, эти рейка, гвоздики, правленые оттиски выглядели глупым приветом из прошлого, из эпохи незабвенного Танкиста. Глупым, но милым! Смелков зажмурился: ах, какое было время! От клацающего линотипа он бегом нёс метранпажу тёплый тяжёлый набор, завёрнутый во влажную гранку, клал на оцинкованный стол и умолял:
– Семёныч, быстрее, график срываем!
Семёныч, толстый, степенный мужик, неторопливо вытирал ветошью руки, испачканные типографской краской, разворачивал гранку и качал головой при виде бесчисленных «вожжей», тянувшихся от зачёркнутых в колонке неверных слов к новым, правильным, выведенным на полях ровным корректорским почерком.
– Над стилем работаешь, Паустовский? Ну-ну…
Метранпаж ослаблял винты тайлера, вынимал из набора, поддевая специальным шильцем, ошибочные строчки, вставлял правленые и вбивал их на место деревянной рукояткой. Потом Смелков мчался по коридору, гремя полосой, к корректоршам. Женщины негодовали: сумки с продуктами, купленными в обеденный перерыв, были уже сложены, оставалось дождаться радостной вести, что номер подписан, – и домой, к мужьям, к детям. Они, как куры, набрасывались на текст, «строчили», сверяли правку и, найдя пару «блох», подписывали полосу.
Дальше путь лежал к уполномоченному Главлита, которого все звали по старинке «цензором». Он-то и допускал полосу к печати – «залитовывал». Замечательное время! Всё было просто и ясно: ты хочешь сказать правду, а кто-то наверху не велит. Значит, или ты его перехитришь, обведёшь, словно нападающий защитника, или он заткнёт тебе рот, и ты напишешь неправду, а наутро твоё позорное враньё прочитают миллионы доверчивых подписчиков. Конечно, на самом деле всё было сложней и тоньше. Грубо говоря, власть напоминала тяжёлого, но капризного и подозрительного пациента. Чтобы убедить его в необходимости укола, надо было хитрить, заходить с одной, с другой стороны, соглашаться с тем, что он совершенно здоров, а потом вдруг улучить момент, – и раз! Обманутый вопит, топает ногами, но уже поздно, поздно. Если получалось, значит тебе, муравьишке, удалось втащить свою иголочку правды на гору лжи, и тогда друзья гордились тобой, а женщины смотрели восхищённо-влажными глазами. Если не удавалось, что ж, друзья скорбели, а женщины смотрели сочувственно-влажными глазами. Ах, какое было время!
…Уполномоченный Главлита, молодой смешливый парень, сидел в отдельном кабинете без таблички. На стене – карта СССР и вырезанный из журнала портрет старика Хэма в знаменитом свитере. На столе – стопка непонятных справочников без надписей на корешках. В углу – сейф для особо секретных инструкций. Цензор был, как бухгалтер, в нарукавниках: свежие оттиски пачкали одежду. Он откладывал новый роман Хейли, просматривал полосу, приветливо кивая каждый раз, когда обнаруживал, что его замечания учтены и текст исправлен. Потом улыбался и хитро смотрел на стажёра:
– Говоришь, «самое тяжёлое – поднять нашу лёгкую промышленность»? Лихо! А вот это просто клёво: «Кресло даётся чиновнику, чтобы работать головой, а не отдыхать ягодицами!» И название отличное – «Ситец – тоже броня!» Сам придумал?
– Сам.
– Опасный ты парень! Ладно, не бойся – оставляю. Может, из тебя Юрий Трифонов выйдет. Будут доценты изучать раннего Смелкова, и меня, цербера бумажного, добрым словом вспомнят. А это ещё что такое?
На лице цензора возникло выражение детской плаксивой обиды:
– Ну сколько раз повторять: нет никакого Кустанайского танкового завода. Ну нет его! Есть Кустанайский завод сельскохозяйственных машин. Исправляй! Не залитую!
– Корректура домой ушла… – побледнел от ужаса будущий Трифонов.
– Догоняй тёток!
В тот вечер номер подписали на час позже. Вот тогда-то Гена впервые и попал в кабинет Танкиста. Преступление было очевидно: на пятнадцати гвоздиках висели полосы, и только под одним зияла пустота. А виновником этой страшной пустоты был он, Смелков. Главный посмотрел на стажёра долгим тяжёлым взглядом, отчего тот невольно встал по стойке «смирно».
– А если бы газету в окопах ждали? – спросил шеф прокуренным скрипучим голосом. – Молчишь? М-да… Выгнать тебя к чёртовой матери с волчьим билетом, и плевать, что за тебя, дурака, хорошие люди просили.
– Иван Поликарпович…
– Молчать! Но не выгоню. Мозгам своим скажи спасибо. Я вот в журналистике сорок лет без малого, фронт прошёл, а мне и в голову ни разу не пришло, что дефицит тряпья – то же самое, что нехватка брони на Курской дуге. Разгромом попахивает. Молодец ты, хоть и разгильдяй. В первый и последний раз прощаю. Иди! Стой! Начальник в кресле не только головой работает, но и задницей. Сам узнаешь! Сгинь с глаз моих, обормот!
За Гену просил тесть Александр Борисович, заведовавший в Худфонде закупкой свежей живописи, а дочь главного была, на беду, художницей – «авангардурой» – так он сам говорил в узком кругу и относился к мазне единственного ребёнка как к обидной болезни, вроде диареи. Что поделаешь – кровиночка!
Иван Поликарпович Диденко (в редакционном обиходе Танкист или Дед) редактировал «Мымру» лет двадцать. Фронтовой корреспондент, разъезжавший на гвардейской броне чаще, чем на редакционной «эмке», он умудрился затесаться в одну из групп, посланных вывесить на Рейхстаге Знамя Победы, но они попали под миномётный огонь и задание не выполнили. Когда-то Дед прогремел очерками о послевоенной Кубани, сильно отличавшимися от сытой и весёлой жизни киношных казаков. Он даже отсидел в следственном изоляторе полгода, пока разобрались, вернули партбилет и вставили за казённый счёт железные зубы. Свой первый серьёзный пост, и не где-нибудь, а в «Правде», Танкист получил после того, как хорошенько «протащил» безродных космополитов в краевой газете. Вся читающая страна повторяла тогда его каламбур: «Борьба с «космополипами» требует скальпеля!» Он долго проработал заведующим отделом в главной партийной газете, а потом ему доверили «Мымру» – новый еженедельник «Мир и мы», созданный в самом конце «оттепели» при Всесоюзном обществе дружбы с народами мира, чтобы показать «определённым кругам на Западе», что в Советском Союзе тоже есть беспартийная, даже свободная печать. Говорили, Диденко вызвал сам Суслов и сказал:
– Давай-ка посмелей, но без партизанщины! Не подведи!
Не подвёл: газету делал лихо, с выдумкой, но без карманного кукиша, который всегда считался признаком интеллигентности и разбежавшегося ума. Острые материалы обязательно согласовывал на Старой площади. Впрочем, это не спасло его от инфаркта и двух партвыговоров – с занесением и без занесения. Однако когда Смелков после журфака по протекции тестя (сначала Гену распределили в «Тургайскую правду») пришёл в «Мымру», Ивана Поликарповича уже редко звали Танкистом, а всё чаще Дедом. Он превратился в обрюзгшего старика-сердечника с одышкой и синими губами. Обычно вечером, в четверг, Дед сидел над готовыми полосами, мрачно рассматривал визы и штампы, никак не решаясь подписать выпуск в свет. Он напоминал сапёра, тяжко склонившегося над миной неведомой конструкции. А утром, придя, как всегда к девяти, пил чай с баранками и косился на «вертушку» – телефон цвета слоновой кости с латунным советским гербом на диске. Партийное начальство начинало рабочий день с чтения главных газет: «Правда», «Известия», «Комсомолка», «Труд»… До «Мымры» руки доходили часам к одиннадцати. Как раз в это время Иван Поликарпович просил секретаршу, служившую с ним, кажется, ещё в «Красной Кубани»:
– Зинаидушка, накапай валерьяночки!
Когда стрелки, малая и большая, сходились на цифре «12», его морщинистое лицо веселело, а в начале первого, поняв, что никаких роковых ошибок в номере не обнаружено, он потирал руки и собирал редколлегию, чтобы поощрить, пожурить и поставить коллективу новые задачи. Ну а если всё-таки – очень редко – вертушка звонила, Дед осторожно брал трубку, слушал нагоняй, багровея, не спорил, отвечал по-военному: «Виноват!», «Не повторится!», «Учту», «Так точно!» Но никогда не выдавал на расправу сотрудника, допустившего прокол или неположенное своемыслие. Лишь потом, отдышавшись, приняв седуксен, Диденко вызывал «вредителя», ставил по стойке «смирно» и воспитывал крупнокалиберным окопным матом. Чаще всех влетало Смелкову, которого так и тянуло к разоблачениям и запретным темам. Отматерившись, Танкист брался за сердце и говорил уже спокойно, почти жалобно:
– Гена, не надо! Зачем?
– Но это же правда!
– Правда – то, от чего жить хочется. А когда от правды впору удавиться, это не правда…
– А что же это, Иван Поликарпович?
– Сам когда-нибудь поймёшь. Ладно, иди! В последний раз прощаю.
Сколько их было, «последних прощений», не сосчитать…
Сняли Танкиста вскоре после прихода Горбачёва. Тогда многих погнали. Убрали, не дожидаясь повода, прокола, как полагалось прежде, а просто-напросто вызвали на Старую площадь и освободили, даже не поблагодарив. От оскорбительной внезапности Дед слёг со вторым инфарктом и в редакции больше никогда не появлялся, а его немногочисленные вещи, включая макет тридцатьчетвёрки, вывозила Зинаидушка, не расписанная жена вдового шефа. Это обстоятельство они почему-то тщательно скрывали, хотя даже студенту, пришедшему в «Мымру» на практику, первым делом докладывали:
– С Зинаидой Антоновной повежливей. ППЖ!
– Что?
– Походно-полевая жена!
На пенсии они наконец зарегистрировались. Дед выздоровел, поднялся, кто-то даже видел его 9-го Мая у Большого театра в орденах и медалях. Умер он неожиданно: опрыскивал на дачном огороде вредителей и слушал по приёмнику, висевшему на груди, трансляцию Съезда народных депутатов. Когда Зинаидушка подбежала к рухнувшему в ботву мужу, из транзистора молотил всезнайка-Собчак, бодрый, как распорядитель утренней гимнастики.
Исидор Шабельский, сменив на посту Деда и разогнав «лабазников», приказал убрать из редакции всё, напоминавшее о временах Танкиста, в том числе и рейку с номерами. А когда Смелков стал главным, он, наоборот, вернул гвоздики. Зачем? Ну, во-первых, так привычнее. К старости, когда не поспеваешь за торопливой новизной, похожей на лавину нелепостей и ошибок, хочется чего-то давнего, знакомого. Кроме того, рейка с гвоздиками казалась ему важным признаком власти, вроде скипетра или горностаевой мантии у монарха.
…Он всё-таки набрал Алисин номер, но она оказалась, на удивление, недоступной.